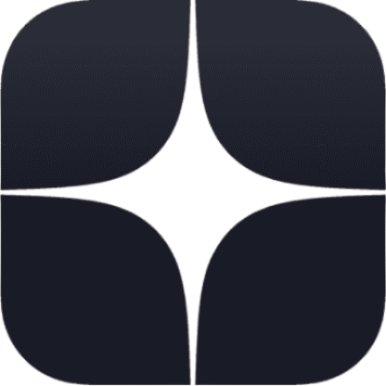В ближайшее время по поручению президента России Владимира Путина Правительство страны даст оценку целесообразности проведения опытно-конструкторских работ по выведению генно-модифицированных пород деревьев с целью создания лесных плантаций для коммерческого выращивания и использования такой древесины.
С учетом этой оценки будет актуализирована Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2035 года. Одним из приоритетов которой станет технологическое развитие.
По данным Минприроды РФ, сегодня более 46% территории нашей страны покрыто лесом, что позволяет считать Россию мировым лидером по количеству зеленых ресурсов. Общая площадь земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса — около 1,2 миллиарда гектаров. Из них чуть больше половины — 593,6 миллиона гектаров — эксплуатационные, предназначенные для промышленной заготовки древесины.
Вместе с тем российские производители сталкиваются с дефицитом качественного древесного сырья. Причины — в устаревшей модели лесопользования. Так, например, значительная часть ресурсов сосредоточена в труднодоступных районах Сибири и Дальнего Востока, где нет инфраструктуры для эффективной заготовки. Кроме того, неэффективное управление, устаревшие технологии переработки, а также незаконные вырубки ведут к истощению наиболее ценных лесных массивов и дефициту качественного сырья для деревообрабатывающей промышленности.
Решение — в комплексной модернизации: от строительства дорог и лесопитомников до применения генной инженерии.
О рисках и возможностях ГМО-культур для ЛПК в беседе с UpackUnion рассказал профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой технологии целлюлозы и композиционных материалов ВШТЭ Эдуард Львович Аким.

История вопроса
Срок восстановления вырубленных деревьев в России составляет от 30 (для осины) до 150 (для дуба черешчатого) лет, в зависимости от породы, климатической зоны и целевого назначения древесины.
При этом год от года в стране растут промышленные потребности в ней. Так, по данным Рослесхоза, по итогам 2024 года было заготовлено на 3,4% больше древесины, чем годом ранее.
Чтобы ускорить процесс восстановления ресурсов и закрыть потребности в сырье с заданными свойствами, на помощь могут прийти новые технологии, в частности — генная инженерия.
Выращиванием лесов искусственным способом в мире занимаются как с экспериментальной, так и с коммерческой целями. Например, в Бразилии таким способом воспроизводят эвкалипт. По сравнению с обычными сортами, скорость произрастания увеличивается на 20-30%, и у него появляется повышенная устойчивость к вредителям. С 2021 года такие деревья разрешены для промышленного использования при производстве целлюлозы.
В Китае с 2002 года выращивают модифицированный тополь, устойчивый к вредителям. Он используется для нужд целлюлозно-бумажной промышленности и борьбы с опустыниванием.
США проводят экспериментальные исследования по выращиванию быстрорастущих каштанов, тополей, сосны ладанной.
Большие работы по выведению новых штаммов и пород деревьев, по словам Эдуарда Акима, ведутся и в нашей стране. Особо актуален вопрос использования гена быстрого роста для северных широт.
«В частности, в институтах Рослесхоза занимались проблемами выращивания быстрорастущей и триплоидной осины. Полученные данные были использованы в Китае при выведении и выращивании тополя», — подчеркнул профессор.

Применение генной инженерии при выращивании деревьев обычно подразумевает решение нескольких задач—ускорить их рост и уменьшить содержание лигнина для облегчения варки целлюлозы для ЦБП.
«Вторая задача, на мой взгляд, является антинаучной, потому что снижение содержания лигнина сразу приводит к уменьшению устойчивости лесов к ветру», — подчеркнул Эдуард Аким.
Этот вопрос обсуждался на международной конференции по проблемам древесины и ЦБП в октябре 1999 года в Гренобле. Через два месяца после этого на Францию обрушился сильнейший ураган «Лотар», в результате которого «Булонский лес вывернуло наизнанку».
«Спустя несколько лет ураган обрушился на Швецию. За один день он положил деревьев больше, чем шведы вырубают за три года. Поэтому ставить задачу по сокращению содержания лигнина, с моей точки зрения, нельзя», — завершил мысль ученый.
Место посадки и риски
Широко распространено мнение о вреде генно-модифицированных продуктов и растений. Применение практики выращивания быстрорастущих плантаций вызывает и в научном сообществе дискуссию об их расположении, соседстве с природными лесами. Однако это не повод вводить запрет и отказываться от развития науки. Важно взвешенно подходить к вопросу выращивания ГМО-плантаций, считают эксперты.
Так, по мнению профессора Акима, выращивание однопородного, в том числе быстрорастущего, леса невозможно. «Самый правильный вариант — мозаичная структура, когда участки искусственно созданной плантации чередуются с природным лесом, обеспечивая биоразнообразие», — отметил ученый.
Таким способом можно выращивать деревья, которые соответствуют конкретному лесоклиматическому поясу. Причем делать это, по мнению ученого, необходимо вблизи перерабатывающих предприятий. Это же мнение озвучил в беседе с UpackUnion руководитель компании «Урман» Алексей Петров.
«Главный вопрос — для кого выращивать генно-модифицированную древесину и в каком объеме? Она может быть востребована в непосредственной близости к целлюлозно-бумажным комбинатам. В противном случае может возникнуть проблема с ее реализацией. Тогда встает иной вопрос — не проще ли предпринять усилия по транспортировке той древесины, которая может пропасть по причинам возраста и техногенного характера?» — считает спикер.
Директор «Центра космических технологий и услуг» Альберт Васильев привел пример Скандинавии, где понятие «лесной огород» было введено в 30-ых годах прошлого века. «Страна была одной из первых, кто занялся вопросом ускорения роста полезной древесины. Для этого применялись специальные удобрения. Скорость выращивания леса была действительно значительно увеличена. Таким образом, ранневозрастные хвойные деревья достигали определенного диаметра и становились пригодны для лесопиления. Однако из-за своей рыхлости она оказалась не применима для деловой переработки. Думаю, что генетика в этом вопросе может дать примерно такой же результат», — комментирует эксперт.
Среди потенциальных рисков по выращиванию быстрорастущих плантаций, — их неуправляемое распространение по аналогии с борщевиком.
«Те породы, которые мы имеем, сформировались в условиях длительного природного отбора. Необходимо в достаточной степени сохранить природный состав, иначе мы можем прийти к инвазивным видам растений. Таким примером является борщевик, который был чуть ли не панацей для кормления скота. Сегодня стоит серьезный вопрос, как от него избавиться», — подчеркивает Эдуард Аким.
Такую точку зрения поддерживает Екатерина Белик, кандидат технических наук, доцент кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).
«Это должна быть регулируемая территория. Важно не допустить отрицательных эффектов. Генно-модифицированные леса должны быть управляемыми, чтобы не причинить ущерба для других территорий и экосистем», — разъясняет эксперт.
Новые свойства и быстрый рост
По мнению профессора Акима, Россия имеет достаточно высокий уровень развития науки. «Прежде всего, наша задача заключается в том, чтобы эту науку холить и лелеять. У нас есть Научный совет по лесу Российской академии наук под председательством Натальи Лукиной. Вопрос выращивания генно-модифицированных лесов должен обсуждаться такими научными советами совместно с представителями промышленности», — продолжил ученый.
В качестве примера он привел быстрорастущие эвкалиптовые плантации, которые сегодня существуют в Латинской Америке. Для их выращивания требуется 7-8 лет. «Для той климатической зоны это нормальная задача. В условиях наших бореальных лесов ставить такую цель по выращиванию древесины, пригодной для промышленного использования, я бы не стал», — подчеркнул Эдуард Аким.

Хорошим результатом по произрастанию лесов в нашей климатической зоне ученый считает увеличение скорости в 1,5-2 раза. «Самоцелью является не 7-8 лет на их выращивание, а устойчивое лесообеспечение с сохранением всех принципов устойчивого развития. Функции леса многогранны, это не только формирование атмосферы планеты Земля, но и трансформация соленых и солоноватых вод в пресную воду. Каждое дерево — это огромнейшая испарительная установка. Наши задачи — уменьшение углеродного следа на каждом этапе переработки природного сырья в конечный продукт, а также осуществление комплексной переработки вторичного сырья. ЦБП использует волокна по 7-8 раз, тем самым является первой отраслью мировой экономики, которая вписывается в концепцию устойчивого развития», — поясняет профессор.
Новые перспективы со взвешенным подходом
Сегодня, по словам Эдуарда Акима, практически все крупные целлюлозно-бумажные комбинаты пережили этап перехода к технологическому суверенитету, сохранили коллективы, расширили ассортимент выпускаемой продукции. «Но вот сохранение их конкурентоспособности — это задача, которая требует резкого увеличения вложений в науку со стороны предприятий и государства. Лес — это воспроизводимое сырье, если его не вырубать, то деревья начинают гнить и вместо кислорода выделять углекислый газ. Сегодня мы заготавливаем достаточно древесины для решения всех тех задач, которые у нас есть. Поэтому наряду с развитием плодородия лесов, мы должны заниматься проблемами комплексного использования древесины — био—рефайнингом. Надо заниматься и быстрорастущими лесами, но это не должно быть самоцелью», — заключил ученый.
Таким образом, развитие генной инженерии в лесном хозяйстве открывает новые перспективы для целлюлозно-бумажной промышленности, но требует взвешенного подхода. Как отмечают эксперты, ключевыми условиями успеха станут строгий научный контроль, сохранение биоразнообразия и четкое регулирование территорий посадок.
Опыт других стран показывает, что ускоренный рост древесины не всегда гарантирует ее качество, а потому приоритетом должно оставаться не столько сокращение сроков выращивания, сколько устойчивое лесообеспечение и комплексное использование ресурсов.
При этом решающую роль может сыграть эффективное взаимодействие между наукой, государством и бизнесом. Лесопромышленные компании, обладающие необходимыми ресурсами и инфраструктурой, могли бы выступить в качестве экспериментальных площадок для апробации новых технологий. Такой симбиоз позволит не только минимизировать риски, но и ускорить внедрение перспективных разработок в реальное производство.
В итоге решение о внедрении ГМО-древесины в стратегию развития лесного комплекса должно приниматься на основе глубокого анализа рисков и преимуществ, чтобы обеспечить баланс между экономической эффективностью и экологической безопасностью.